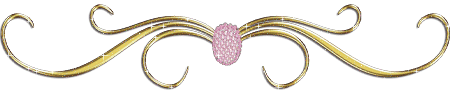Анатолий Андреевич Маляров
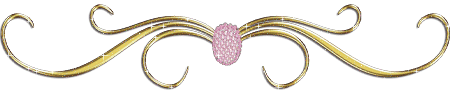
Родные пенаты
Старик Ульян Кочет, дважды заслуженный, и как путешественник и как журналист – рассказчик от Бога; передавал свои воспоминания с юмором и умопомрачительными деталями, главное же, с таким упоением, мизансценами, мимикой и жестами, что картинки и диалоги из его повествований западали в голову и повторялись молодыми слушателями, как поучения из классики.
И вот – к семидесяти годам Кочет совсем перестал описывать побережье Копа-кабаны, самумы за Сырдарьей и спаривание слонов в Непале; перешел на свои детские и юношеские воспоминания.
Уж как хороши и пахучи были его дикие, хуторские степи, выгон у пересыхающей Бакшалы, где он служил подпаском при стаде, с одиннадцати до четырнадцати лет; как резвы и колоритны ездовые пары и верховые из колхозной конюшни, где он познал радость жить помощником конюха с пятого по десятый класс сельской школы!
Прозвище старшего пастуха, имя племенного рысака из конюшни и, превыше всего, имя первой девушки рассказчика стали в клубе ветеранов и в редакциях газет, где Кочет был завсегдатаем, ну впрямь, нарицательными.
В общем, лучший кусок жизни Ульяна, московский вуз, джокерная женитьба, на удивление частые для его сурового времени зарубежные командировки, карьера и благоволение к редкому специалисту от властей, – все померкло, все затенили детство и юность.
Естественно, скажет психолог, старики впадают в детство.
Но и эти рассказы дедули притупились, визиты в клуб и редакции – тоже.
У него умерли как-то сразу и жена и долгожительница теща – уют, опора, стимул его домашнего обитания.
Растерялся недавний бодрячок, почетный ветеран и вербальный писатель.
Совсем отвернулся от города, вспоминал старших своих коллег, которые отошли в лучший мир.
Выбирал из них тех, кто, после дальних плаваний, как Сашка Юрьев, или руководства мукомольным делом в столице, как Юрка Латий, велели похоронить себя в деревне, где явились на свет.
И острое желание найти живой, а возможно, дай Бог попозже, и вечный покой в родном хуторе конвоировало Кочета всю зиму.
Летом он заправил бак своего «Опеля» и подался за двести верст в поисках оставленных пятьдесят лет тому назад пенатов.
Душа поднималась: в городе старик уже приелся, а в деревне к нему оживет интерес – человек бывалый, «в твынчику», чистенький, гляди, что-то не то знает и – свой.
... С холма смотрелась одна серость. Речка высохла, пунктиром тянулись лужи; полынь, лопухи, пырей, дрок, кашица, – все смешалось, как в повести Гоголя. На проселок, в пыль, словно от отчаяния, выбрасывались упругие листья подорожника.
Село внизу казалось приплюснутым и жухлым, ни Дома культуры, ни церквушки над ним.
А хутора у излучины долины вовсе не стало – пятнистый кротовий луг, и только. Прошло ведь пятьдесят два года с того дня, как Ульян уехал в город, а за ним перебрались и отец с матерью; тогда другая жизнь завертела всех троих, и никому в голову не приходило наведаться в зной и пыль Лужанки.
Спустился ниже – ближний околоток квело оживал.
Пробежало две не то мохнатые, не то линялые и весьма скептически настроенные собаки, рядом с кустом дерезы кочет с павлиньим оперением топтал зазевавшуюся несушку. «Кочет – мой однофамилец», – шуткой взбодрил себя старик.
А ведь когда-то тут билась жизнь, да еще какая памятная! Походы ночью «на бахчу» – да в лютую грозу, чтобы ни сторож, ни объездчик не нагрянули. Тьма адова, выкрикнешь: «Блысны, блысны, блыскачу, нехай я кавун побачу!» – Тут же сверкает молния, и вся босая команда набрасывается на рябую, лоснящуюся, шестикиллограммовую ягоду. А купания в заиленной Бакшале – ныряешь хохлом, а выныриваешь негром; а скачки на двухлетках, еще не знавших ни седла ни хомута. И культура: передвижное, на одинокой кляче кино, которое вручную крутили в пустующем амбаре. Все такое – невежественная, праведная юность. Но были и грехи.
Вот последний. После первого курса приехал Ульян за остатками отцовского добра, прошелся к бережку.
В саду уныло и призывно пели девушки. Он, студент престижного, едва ли не единственного в большой стране вуза, уже приятель Аси, младшей дочери замминистра, человека с очень волосатой рукой – таким и ходил между селяночками кочетом – не по фамилии.
Под вечер тронул за руку одну, недавнюю соседку, кажется, сверстницу Веру, – пошла за ним до странности покорно.
В тени холма, вполне видный издали, обнял девушку, она позволила.
Обнаглел, увлек в кусты, присели, как бы невинно дурачились, положил девушку на себя.
Она вдруг впилась в его выпавшую из ворота ключицу.
В зажмуренных его глазах встало сладкое видение: за конюшней, на солнцепеке, сеголетняя голубка своим клювом проникла в клюв сизарю и силилась-силилась, что ли, напиться...
Дальше вихрь и восторг, затем картинка: откинувшаяся на отаве Вера и ее дробный, младенческий смех; пылающее лицо кричит: мне больше ничего не надо!..
Впрочем, что было, то прошло. Уехал блудник на следующий день – так выпало.
В наши дни такие перипетии кажутся книжными, киношными, требуют снисхождения.
И вот на первой скорости, почти без оборотов ползет Ульянов «Опель» по родине.
Пустошь на обеих куцых улочках. Лучший уборщик – ветер выдул не только стебли и ветошь, но и людей; вклинившееся в околоток кладбище пригорюнилось старыми акациями, замшелыми камнями и колонией однообразных кубов из известняка, потемневших, издали похожих на ульи. Скучно лежать тут покойнику.
Кочет как-то и забыл, что тут навечно покоятся Сашка и Юрка, и что когда-то издали ему казалось, что и для него все удобства уготованы на Лужанском погосте.
Пока живой, Кочет укатил к центру села, заглушил двигатель, прошелся по заросшей площади, некогда бывшему базару – по воскресеньям и средам...
И тут, по пословицам «мир тесен» или «гора с горой не сходится», увидел две подвязанные под подбородок, оживленные физиономии. Две бабки вперились друг в дружку и что-то недосказанное досказывали.
У каждой в руке линек, на каждом линьке по серой комолой козочке.
И обе твари силятся и никак не растащат хозяек по домам.
– Здравствуйте! Я хочу напроситься на постой... на недельку-другую.
– А вы чий будэтэ? – Это полная, в подотканной юбке, видать, только что собирала березку: со спины спускалась трепаная вязанка.
– А цэ будэ Ульян Кочэтыхы! – опередила пришельца другая, тощенькая, со здоровыми морщинами на утратившем черты лице и в задубелом фартуке.
– Вера? – тут же нашелся Кочет.
Полная бабка поспешно вставила:
– У Веры и посэлытэсь. Вдова.
– В Лужанци вси вдовы! – почему-то с озорным смешком подхватила Вера.
И вот он хлебает борщ в светелке давней и мимолетной симпатии, старательно прячет воспоминания от себя и от хозяйки. А она рекомендуется:
– Сынок за сэлом держыть коривок. Шисть. Возыть молочнэ в район.
Бэруть. А в мэнэ пчилкы. Мэдом снидаю й вэчэряю, тым-то й здоровэнька.
Даже не горблюсь, бувае шо пид вэчир...
Вы ижтэ, займайтэ рот скоромным, а я буду балакаты. – И философствует: – А шо город? Города дуже багато. Нэ знаешь, за шо ухопыться и кого боятысь.
И – всэ розумныкы та пьяныци. Тут, колы щэ чоловикы жылы, якщо було один-два на всэ сэло гиркых, то про ных вси знали, пальцем тыкали.
А в городи горилка-пыво – то здоровый видпочинок.
Тут радости земни: онукы, худоба, левада, грядка та полижок, – знаеш, де хто ходить и де хто лэжыть – покой на души. Прополышь грядку сапою, задасы кизочци та свинци, як потому спиться праведний души!
А там – нихто зад не пиднимэ без машыны, прання-штопка-варка – всэ тэхника, жывуть люди токо за тым, абы обслужыты однэ одного...
Постарела Вера, это уже не она: девочкой свое держала в себе, на люди выносила только то, что от нее ожидалось.
Теперь, бабкой, все ворчит, говорит с вызовом. Странно, тертого горожанина от ее уютной брани окутывает тепло, аура далекого, из воспоминаний, села.
Мир девятиэтажек, суетный, перегруженный, пестрый, пропитанный бензином и завистью исчезает где-то за этими низкими стенами хатки, за искореженным старой замазкой малым, почти печным оконцем, за упомянутыми старой селянкой левадой, за гоголевской степью.
Поздно-поздно спит Ульян на пахнущем плесенью самовязном лежнике, под тонким козьим покрывалом.
Снится черт-те что: Вера, – не та, что пятьдесят лет назад покорно шла за ним, а сегодняшняя, с крупными, дебелыми морщинами, седыми прядями и все в том же набухшем фартуке – бабой ягой с запавшей челюстью вроде бы забирается к нему под козий пух и говорит эдак литературно:
– За все надо платить. Ты забрал мою невинность, я заберу твою вину.
Даже вздрогнул старый материалист, открыл глаза. Никого. Разом вспомнил, что хозяйка собиралась на ночь к сыну, за околицу, в коровник.
Тут же остро почуял спертый дух каморки, поднялся, толкнул раз и другой крохотную форточку – со двора ударило тяжелое дыхание животины, точь-в-точь, как вздох буренки.
Давно-давно его не различал давний подпасок, а в стариковских пересказах вообще отдавал свежим разнотравьем и парным молоком. Теперь же едва не задохнулся преклонный чистоплюй.
Выглянул в форточку – копна щедро заготовленного навоза паровала между окном и огородом.
Совсем не чем дышать стало – захлопнул створку.
Утром разнообразия прибавилось.
Вера поскребла стол, на голые доски положила свежий корж, «кавалок» брынзы, выставила кувшинчик козьего молока и крынку меда, пожелала «смачного» и скромно удалилась.
Дверь не прикрыла – тут же явился Петко, копия того самого кочета с павлиньими перьями, что обихаживал цыпку на краю села.
С чувством хозяина петух вспрыгнул на стол и, не церемонясь, клюнул корж раз-другой. Не услышав возражений, ступил к кувшину, завалил гребень набок, заглянул внутрь.
Потом сунул туда клюв, потом голову. Следом вошли три курицы, одна вспорхнула на столешницу, к поводырю.
За дверью, откуда-то из-за тына донесся крохотный смешок и довольный голос, видимо, ближайшей соседки:
– Вер! А моя Коца загуляла. Я присила до корыта, а вона – плыг на спыну, та сердыто!...
– У менэ тож новость! – Это голос моей хозяйки. – Последня галанка вывела курчат ув двир!
Хозяйку услышал не только Ульян – и петух и кура встрепенулись, спрыгнули со стола и, вместе с теми, что паслись на полу, вымелись из светелки. Городскому гостю подумалось: вот какие утренние новости в Лужанке.
В Николаеве обыватель с рассвета включает приемник или телевизор и спешит узнать, какую вампуку на сегодня выдал премьер, что за погода в Сан-Франциско и починили ли сынку президента мотор на стометровой яхте.
За окном глухо задребезжал возок, притих, фыркнула лошадь. Голос мужика сипло и ласково сказал:
– Мамо, цэ снип из первых. Нехай курчата порыются, поучаться шукать!
Вера украдкой, половиной лица, издали заглянула в светелку, увидела, что гость бодрствует, ступила в проем двери смелее:
– Не потревожыла? Добрэ утро! У вас там сплять, покы сонэчко на небо?
– А в селе – до свету?
– Лучча электрыка – сонэчко. З ным встаемо – з ным лягаемо. – И с легким вздохом добавила: – Покы жывэ сэло, жыва й уся наша земля.
Вера повесила на дверную ручку свежее полотенце (не глаженное) и потопала за ворота.
Ульян нашел умывальник под стогом старых кукурузных стеблей.
Мылся до пояса, как в школьные годы, даже с приливом молодого удовольствия.
Потом ходил по двору, дальше, по битой и неопрятно поросшей улице – искал, с кем бы пообщаться.
Увы, только лошак, гнедой, без уздечки, смирно подошел к нему, понюхал и пошел следом. Ульяну припомнилось конюшее детство, сладко стало и как-то обнадеживающе.
Он повернулся к лошаку, тронул гриву – тот потянулся и стал покусывать плечо – Кочет почувствовал себя ездовым при недоуздку и арапнике. Приятно, животина ручная и еще не упряжная: никто его не угнетал, не обижал.
Но когда старик зашел с боку и, как бывало в подростках, положил обе руки на холку жеребчику, тот фыркнул и резко повернулся к нему задом.
Старик вспомнил, что с такой стойки лошади вскидывают задом и крепко бьют копытами – и попятился.
По сузившейся улочке, между рядами одичалых, разлогих акаций он прошелся в свое удовольствие.
Ожидал, что встречные с удивлением оглянутся на старого интеллигента в нездешней шляпе и с тросточкой, заговорят, обогатятся от него новостями, понятиями. Увы! Пусто и пусто.
А двое мужиков, таскавших большущую допотопную тачку через дорогу, впопыхах уступили ему тропу и даже не глянули, как вчера те две равнодушные собаки, что встретились ему у истока деревни.
Не интересен Ульян в этих краях, не приспособишь дряхлого астеника к перетаскиванию тяжестей, чистюлю, «в твынчику» к выгребке навоза, а удумавшегося чуждыми мыслями обывателя к своим повседневным интересам.
Прямо посреди дороги вырос овин, а перед ним, на заасфальтированной еще при большевиках шмате дороги – ток.
Дальше идти некуда. Может, там, за овином, путь продолжался, но к овину подкатить можно было только с другой стороны.
Бог с ним! А людей и тут нет.
Можно подъехать грузовиком, забрать снопы первого укоса – неужели тут не воруют?
Странное для нашего времени явление!
В глубине зарослей, на затененной лужайке – полсотни ульев – пасека с напевным гудением пчел, с нежным ароматом гречишного меда, с большим титаном и длиннющим желобком для водопоя насекомых.
Умно, ничего лишнего... но снова же ни души.
Оттого фантазия увела старика черт-те куда: серые ульи напомнили ему кубы на кладбище – и гул пчел слепился в плачь на гробках, в пасхальнве дни: и родные не узнают, где могилка моя...
Интересного много, но только для первой прогулки. Ни занимательных, полных действия сюжетов, ни мелких и крупных потрясений, ни присутствия на лоне природы изысканных женщин, какими заполнены экраны..
Улыбнулся Ульян: а ведь это то, на что намекала Вера.
Развращен мещанин Кочет телевидением и создателями его программ, бездарными и ленивыми.
Их кучкование вокруг легкой, добытой играючи, наживы, их весьма отдаленное представление о жизни сделало его, как и всех телеманов, невеждами и потребителями острого и злачного зрелища, совсем не похожего на бытие.
Там если конь, то скачки, если мужчина, то бьет в зубы или насилует, если женщина, то обнажается и корчит страсти...
И в обед и к вечеру Кочет, после дальних прогулок, заставал дверь Вериной хижины приоткрытой, на столе – брынза, токана, перепечка, мед, под тремя рушниками, в чугунке, суп – а хозяйки нет. Понятно, где-то помогает сыночку по хозяйству.
Но когда и на ночь не пришла, стало непонятно: неужели такой приметный гость, с которым есть что вспомнить, Вере не интересен.
Да он же был первым ее!.. Да он же единственный из их забытого Богом и поборами села выбился в люди, да еще как!..
И спать Ульян лег в трепанных чувствах – не за тем странник и писака приехал в село.
Следующий день не менял ни декорации, ни антуража.
Стол накрыт, петух на столешнице, из форточки – естественные ароматы, а Веры нет.
Пошел прочесывать дворы, выгон и заросли – где-то же хозяйка с козочкой гуляет!
Нашел старых подруг у криницы. Вера философствовала:
– Пэрэсэлылысь наши с грядкы та фермы на асфальт, и все в словах и писнях сумують за мамыным хутором, а самих такых и палкою не загонышь до сапы та дийныци.
Там у ных окрутыш валаха на сотню-другу, зфалуеш лишню жиночку – ты король А в нас – визьмеш двийко цапкив од покоту чы два качаны з стэбла – ты пан...
При Кочете соседка почуяла себя лишней и раскланялась. Ульян прямо спросил:
– Вера, я тебя стесняю?
– А й ни.
– Что же ты избегаешь?..
– Боюсь порушыть сэбэ. Я знала тэбэ первым парубком на сэли, всим був по мэни...
И всим, шо помню, тым и живу.
А тут, глянь, поговорым раз-другый – ты станеш такым же, як всякый з мищан, поминяеся в моий памяти – до чого мэни все такэ на старости?..
И встала Вера и побрела, потащила за собой комолую козочку на линьке.
В тот же день Кочет уехал.
Где тут концы, где было начало, ни один рассказчик не растолкует.
* * *
Причуды мещан
Любовь Андреевна, – с Перовой поперечной, – не покупает продукты фирмы «Торчин». Мало того, и Шерстюкам, и Кудиненко, и Потапам и всем-всем товаркам заказала не питаться тем, на пакетах чего написано: «Торчин-продкут». Ну, как тут торговать и развивать бизнес? Мелкие лавочники, да и владельцы супермаркетов кинулись утрясать вопрос. Прежде всего, подослали к Любви Андреевне справиться, что за причуда? На каком основании? Приправы высшего качества, свежие от старого до нового года и наоборот!
Выяснилось: виновата эрудиция Андреевны. Обогащая свой интеллект, старуха читает все подряд: «Вечерку», «Южную», «Нашу газету», журнал «Киев», Юлино «ВВ», книги – преимущественно познавательного характера, а уж от ящика не отрывается даже стряпая или жуя. И верит всему, что типографским способом набрано или изречено прохиндеями от масмедиа. Месяц назад уперлась взором в такую историю: в одиннадцатом веке, а именно 5 сентября 1016 г. коварный князь Святополк Ярополкович, не Святослав, который «иду на вы», но сын того, окаянного… Так вот этот коварный правитель выяснил, что юный князь Глеб Владимирович имеет куда больше прав на киевский стол, чем он, Святополк, и ничтоже сумяшеся, велел его же повару отравить или зарезать юного умницу и красавца Глеба. Придворный кулинар подал невинному юноше обед, а сам взял кухонный нож, зашел со спины и… перерезал горло, аки непорочному агнецу – перерезал праведнику, без которого граду несть стояния и кого через годы причислят к лику святых.
– Причем же здесь «Торчин-продукт? – спросите вы по вашему невежеству.
– Да притом, что окаянного повара звали – Торчин!
И как теперь унять Любовь Андреевну с Первой поперечной?!
2
Саня Петрунец решил не регистрировать свою «Ладу», не ставить на крышу «шахмаку», «такси», а действовать на подхвате: в морозные денечки много безлошадных граждан выходят на бровку мостовой и голосуют. Подбирай и не плати налоги! И дело шло. Шло до поры, пока в один день не подвернулось два смуглых и веселых пассажира. Не даром говорят: «Грифы – санитары сафари, вороны – санитары леса, а цыгане – города».
Первый ром остановил «Ладу» на углу Наваринской и Большой морской.
– Земляк, мой, подбросишь до Широкой балки?
С левыми пассажирами не договариваются: расплата сама собой подразумевается. Сеня согласно кивнул. Тут же, Бог знает откуда, вынырнуло еще трое пацанов, ну, прямо от восьми до двенадцати лет, и принудили водилу поморщиться: сиденья замызгают, братва ведь не из чистоплотных. Мало того, каким-то чудом они без участия водителя распахнули багажник, вкинули туда два куля какой-то рухляди, потом долго прижимали всеми тремя тельцами крышку, пока она не щелкнула с болью, словно душу Петрунцу прищемила. Затем волшебным взмахом растворили обе задние дверцы, потолкались, погалдели и утрамбовались. Катил таксист-инкогнито во весь дух: скорей бы избавиться от таких пассажиров. У забившейся в переулки хаты притормозили, табор велел отщелкнуть багажник. Слава Богу, круиз закончен . Выгрузились в одно мгновенье. Манатки с тыла забирали малыши, а отец их в салоне затеял раздражающий и отвлекающий торг:
– Вот тебе червонец.
– Так один бензин на такую дорогу стоит червонец.
– У меня больше нет.
– Какого же черта садился со своей сворой?
Свора тем временем скрылась во дворах
– Ладно, на еще трешницу.
И цыган попрыгал за калитку.
В тот же день у рынка «Колос» другой рома перехватил «Ладу» и попросил:
– Брат, два ковра довези до Половинок.
– Далеко.
– Ты уважь и я уважу.
Полчаса с хвостиком выбирались из города, потом заезжали на заправку. Пассажир напевал песенки степей, подлаживаясь под простака, и не болтал, как это принято в бродячем племени. Доехали.
Цыган вытащил свои ковры, повертелся, изображая, как ему трудно держать на ветру широкую ношу, крикнул:
– Постой минуту, оттащу, вынесу деньги.
Стоял Саня десять минут, потом двадцать. Что-то заскребло под ложечкой, вдруг осознал, что вез он цыгана! Вышел из салона, осмотрел жилища, похожие одно на другое, не беленые, без оград и палисадников. Ну, чистый табор, только, вместо шатер – пятистенки. Еще подождал. Наконец, пошел искать справедливость – подряд от крайней до дальней хибары.
Спрашивал, в ответ чернявые сдвигали плечами; ругался, в ответ благородно возмущались:
– А что грешишь матом? Мы же тут не при чем!
А когда совсем расходился Петрунец, вышел их атаман, барон, что ли, дородный, в кожанке, похожей на комиссарскую, скривил морду и походил вокруг лимузина:
– Кирило, как тебя зовут?
– Не Кирило, а Саня. А ваши меня надули…
– А ты не надуваешь?
– Я то? Да ни в жисть1
– А где твои знаки таксиста? А государство кто обирает?.. Катись, голуба, домой и моли Бога, чтобы я не позвонил в ГАИ и не назвал номер твоей телеги и твое имя, Саня…
Уехал Петрунец, не солоно хлебавши. К этому следует добавить, что вечером, уже в гараже, он обнаружил еще большую утрату: цыганята, в Широкой балке, забирая свои пожитки, унесли его собственный домкрат и шмат нового поролона – подстилку для ремонта, еще, кажется, китайскую сумку – на всякий случай. Как жене признаться?!
3
Старик с ул. Белой переехал к сыну на другой конец города, чтобы помогать тому при крохотном его магазинчике. Кантовал грузы, дежурил по ночам, часто растаскивал подвыпивших граждан, даже милицейский свисток купил – распугивать сцепившихся. Все шло чин-чинарем, даже долги за кредит отдавались и семья не голодала. Вдруг старик заметил интересную коллизию: под праздники, и державные и церковные, в магазинчик приходили коротенькие записочки, в три-четыре строки. Через плечо невестки как-то прочел перечень: коньяк – одна фляга, конфет – одна коробка… далее не успел.
Выждал от святцев до святцев и проследил: цидулки снова пришли, две. И высмотрел, как сынок исправно соорудил пакеты и под вечер ждал чужие машины, а пришли иномарки – вкинул в них гостинцы. Душа старообрядца не смолчала:
– Сыне, а кого это ты подпитываешь и денег не берешь?
– Ах, батя, ты отсталый товарищ!
Избежал объяснений, родненький, но жаба продолжала душить старика. Хотел по новой насесть. И тут сценка из обихода. Сидели за столом дома. Вдруг звонок из магазинчика, от продавщицы. Сынок угукнул в мобилку и сказал со вздохом:
– Разберемся.
Тут же набрал другой номер и кодовым манером сказал, еле поймешь:
– Там у меня, похоже, с твоей конторы, Витольд… Угу. – И захлопнул говорящую японскую чертовню.
Две минуты спустя звонок: продавщица сообщила, даже со стороны слышно:
– Уехали с Богом!
Отец пристал с моральными установками:
– Что же ты всякую погань содержишь? Поощряешь коррупцию!
– Папань, нам, мелкоте, легче иметь дело с блатовыми, чем с государством. Оно не обеспечивает нормальные условия торга, не крышует нас и всегда найдет к чему придраться – три шкуры сдерет и не сыщешь управы.
– А тут по православному?
– Тут – подлецы, но ты их знаешь в лицо и они держат первое же данное слово. А там – дебри, бумажки, переменные морды, гоняют от двери к двери, от стола к столу и день и неделю. А мне вкалывать надо, недосуг!
4
Да что пенять на других, с автором этих заметок случалось не лучше. Люблю пересказывать эпизод со знаменитым артистом и певцом Николаем Сличенко.
По своим обязанностям на телевидении я отбирал у гастролеров спектакли для показа по нашей программе. Подписывал договора на кругленькую, часто с хвостиком сумму и сам же вел репетиции и передачи. Гостил у нас московский театр «Ромэн». Я уговорил Сличенко, многолетнего худрука коллектива, чтобы он продал нам свою лучшую постановку, а в оплату за показ ввел еще и сольное выступление певца и гитариста – самого Николая Алексеевича в удобный для него день и час.
– Сегодня у нас что, четверг?
– Да, – говорю, уже упиваясь победой.
Сличенко почему-то пощупал левый нагрудный карман своего френча и сказал:
– Значит, спектакль выдаете в пятницу?
– Да! – совсем возликовал я.
– Ну, а я приду к вам в субботу к двадцати, ноль-ноль.
– Отлично! Выделяем для вас сорок минут эфира. Снимаем все наше скучное.
– До субботы! – И маэстро пожал мне руку на прощанье.
В пятницу вся телестудия трудилась на славу. Огромное сценическое представление выдали на ура! В субботу отменили две деловые программы, оформили студию, словно в нее должен был войти сам Всевышний. К девятнадцати, как заведено, ждем знаменитого певца. Его нет. Уже половина двадцатого – нет гостя.
– Звоните во Дворец, где штаб гастролеров, – командую помощникам.
Звонят. Трубку никто не берет. Я человек нервный и мобильный: расставляю посты для встречи Сличенко здесь, а сам прыгаю в машину и – в его штаб.
– Николай Алексеевич опаздывает, – набрасываюсь на администратора его театра.
– Николай Алексеевич? – странно вскрикнул москвич и сел. – И вам того?..
– Что значит того? Он позавчера, в своем временном кабинете обещал мне, что выступит в нашей студии со своей гитарой.
– И Черноморцам обещал…
– Что значит, обещал Черноморцам?!
– Позавчера, когда Николай Алексеевич говорил вам, что придет с гитарой в студию в субботу, у него в левом нагрудном кармане уже лежал билет на пятницу, в Москву.
Я вспомнил, как маэстро, прежде, чем пообещать, погладил свой левый нагрудный карман. Но ведь он, не моргнув глазом, гарантировал свое выступление у нас.
– Что это, – возмущаюсь я, – наследственное от баронов – деда-прадела?
Ответа не последовало. Пришлось срочно, по телефону, восстанавливать прежние скучные программы и понести на своем сердце еще один рубец.
* * *

Мистика
Святочная быль
Старый серб Бронислав Нушич вывел: философия – это когда ты говоришь то, чего я не понимаю, а я говорю то, чего ты не понимаешь. И все же – пусть люди говорят. Хуже всего оставлять человека наедине со своими мыслями. Дойдет до основного вопроса философии: что раньше вылупилось: курица или яйцо? А то еще по старинке решит, что человек произошел от обезьяны. Если добродей про себя, то уж Бог с ним, а коли про своего начальника или про городского голову, и уж совсем кощунство, если возомнит, что глава государства произошел от гориллы – криминал!
Во избежание неприятностей – я о себе. Остался я как-то однажды сам на себя. И не ночью в постели, и не на рыбалке, когда не клюет, не за рюмкой, а за рулем.
Канун Нового года. Катит трепанный «Москвич» по николаевской дороге; туман полосами, гололед – дорога катком, скорость ямская – дрема накатывает. Справа примерно похрапывает коллега Заварзин, под торпедой сипло ноет приемник «Малиновки заслышав голосок»… Глаза смежаются. Чем бы взбодрить себя?
Справа, на бескрайнем ковре из снега стоит молодайка в дубленке по фигуре. Чудится мне, что ли? Ан, нет: машет – подвези! Слава Богу, отвлечет. Остановился, толкнул заднюю дверцу, села. И тут же отвернулась, усердно спрятала личико в воротник и голос не подает – скромница, боится, приставать буду, скромница, инкогнито.
Скольжу дальше, думаю: хорошо, приятель спит, он бы нашел подход: за два года, с тех пор, как супруга отчислила его из семейного штата, он обаял половину слабого штата на нашей службе. Аморальный народец нынче пошел, сухая жилка, не то, что эта, на заднем сиденье, чистенькая, при модной бекеше, дышит ароматом… Собственно, аромат сена и молока, но нам, провинциалам да живущим впроголодь, он милее французской пятой шанели. Да что я сужу других – сам я тот еще гусь… Под тупое гудение мотора, под продвижение почти ползком и после бессонной ночи в кошаре под сивуху и шашлык с дымком, в голове только мрачные мысли и тяга к самобичеванию…
Вот еду я откуда? С поборов. Под святцы сговорились с коллегой Заварзиным мотнуть к овцеводам и достать по блату свежей баранины. Ничем нам не обязан глава кошары, а так, через рюмку, да не со мной, а с коллегой, через снисхождение к городским дефицитам – одарил… Я как и коллега, взял дар в котомке и не заплатил. Свинья! Да и по женской части не мне упрекать дружка. И пошли стишки про козла:
Скотина я, дурю свою козу
Поездками, советами у зама,
А сам с гуленами-козлами
По злачникам хожу…
Да и вся моя карма списана с паразита. И ее невозможно понять, как не понимают друг друга философы, по Нушичу. Тошно, чувство брезгливости к собственной персоне накатывает. С детства черт нянчил человечка. Он же в голодуху из деревни прислал бабушку, которая свой кусок отдавала мне… так и умерла, но меня выдюжила. В юности нечистый обеспечил меня легкой и цепкой памятью: зубрить не приходилось – на экзаменах всплывал именно тот материал, что требовался в билете. В институт подпаска и помконюха провел умирающий профессор, которому, видимо, хотелось напоследок совершить доброе дело – поднять колхозника от бычьих хвостов да в искусство. К концу моего образования держава затеяла «новый вид искусства», честнее, зомбиконторы – телевидение. Башни росли, как грибы в дождик, специалисты набирались, по сути, с бору по сосенке. И я попал в их число, мне сразу дали квартиру, в то время, как работяга на заводе ждал жилье двадцать лет.
Женщины жаловали… И все это, от куска хлеба до поцелуя, без напряга, походя, и все я принимал жизнь понарошку, мол, черновик. Вот встану на ноги, расправлю плечи – заживу набело. Но так исподволь притерся к черновику, так устраивал меня мой быт и окружающие нравы, что я и Бога забыл.
Не знаю, забыл ли Бог меня, но асмадей, вельзевул, шайтан или как там его еще величают, конвоировал всю дорогу. Вот он, всплывает перед ветровым стеклом. Мордатый, мохнатый, красные глаза навыкате, ноздри черные, клыки выпирают изо рта, этот точно произошел от крупной обезьяны. И жутко мне стало. Но не оттого жуть, что вижу явление сверхестественное, а оттого, что я его не боюсь. Привык, что ли? Или хуже того, я впрямь держу его за покровителя все свои сорок лет. И вот, наконец, свиделись. Гоголевская чертовщина, да простится мне…
Гула мотора не слышу, белого савана в степи не вижу, на дорогу плевать. Только этот пурес оживает во весь экран. Сейчас заговорит. Спросит, потребует… Надо отвечать. А я не привык отвечать ни по делу, ни по охотке. Житуха мне особых вопросов не задавала, отвела теплое местечко приспособленца и – скользи по тропке, Вася, по наклонной!
– Приготовься, сейчас врежешься, – вроде бы произнес с шипением вельзевул.
Я хотел отмахнуться, потом-таки сдрейфил, намерился попросить защиты. Но уста ватные, язык разбух, не выдавлю словечка. А этот добряк шипел дальше:
– Только ты не старайся лоб в лоб, загнешься. А ты мне еще нужен… Ты маленько пропусти встречную и – резко бери влево, так чтобы врезаться в бок…
Такие указания в деталях привели меня в трепет:
– А нельзя ли без этого?..
– Нельзя. Ты накопил грехов аккурат на крупное ДТП.
Грамотный, мерзавец, знает наши термины и аббревиатуры.
Хватаюсь за соломинку:
– Ты… Вы учитывайте, что в салоне… вон справа… приятель!
– Окстись! Одними прелюбодеяниями твой приятель набрал сто из ста.
– Да… да, – не смел я врать при всесильном асмадее. – Но на заднем сиденье… молодайка… невинная…
– Дурак ты! – был исчерпывающий ответ.
Что-то вязко шугануло мимо. Вроде бы я заглянул в зеркало заднего вида: меня вроде бы преследуют два «газона». Если затормозить и остановиться во избежание столкновения в лоб, то тут же получишь – в багажник. А потом выскочат из кабин два пролетария и вздуют за резкое торможение. Уж лучше собраться и держать баранку покрепче, авось обойду рок… А вельзевул-шайтан-асмадей выставил клыки, это он обозначил смех. И заржал тонко, как жеребенок, потом – на низах, как Мефистофель у Гуно. Я похолодел.
Обычно, в спокойной жизни, когда мне снятся страшилки, я умею принудить себя проснуться. Тут же чувствую – глаза открыты, только открыты не в явь, а в заморочь. Неужели так сильно сказывается вчерашний самогон и шашлык с дымком? Неужели я?..
Нет, я таки проснулся, вижу в полосе света меж двумя дымками тумана – цементовоз с прицепом. Этот монстр рычит и смотрит красными фарами, как смотрел асмадей своими выпученными зенками. В зеркальце вижу два «газона». Шлейф из видения перемещается в явь – двойной кошмар. И я почему-то просто вынужден продолжить игру между образом и реальностью. Я вспоминаю, что на носу у меня очки, если стукнусь о цементовоз, а следовательно, рожей о рулевое колесо, то битые стеклышки с диоптрией врежутся в глаза… Если в лоб, а если чуть пропустить и, по указке вельзивула, резко крутнуть баранку влево, то получится – в бензобак. Огромный, на сто двадцать литров. Если бак полный, то треснет и потечет бензин. Если же полупустой, то взорвется и – асмадей-шайтан соврал: я взорвусь и напотом ему не пригожусь…
Удар! Обе машины заглохли. Стоят Те-образно, как столы в моем кабинете. Передние дверцы «Москвича» заклинены. Справа коллега Заварзин с расколотыл лбом капает кровью и так и не просыпается, у меня по лицу течет что-то горячее. Все шофера, – и с цементовоза и с «газонов» бегут, ломятся в дверцы. Молодайка с заднего сиденья срывается, выталкивает свою дверцу и бежит в степь. Чокнулась, поди. Ее догнал и свалил в сугроб водитель. Слышу крики:
– Ты что?
– Отпустите меня обратно, на ферму!
– Ты в своем?..
– Да, только нельзя, чтобы мой узнал, что я, после дойки, забегаю в город к милому…
Я не могу выбраться из металлического гроба, не в силах двинуть рукой, весь в крови… А очки, целехинькие, спокойно лежат в ложбинке рядом с рычагом передач, а в голове анекдот обо всех нас троих в машине. Старый анекдот: Бог сказал одному сугубому прелюбодею, что тот кончит утопленником. Тот всю жизнь остерегался воды. Десять лет спустя, подзабыв страхи, таки сел в большой теплоход. И этот теплоход терпит крушение. Тонет. Грешник взмолился:
– Господи, ну, допустим, я преступил… меня ты губишь водой. Но за что же эти три сотни пассажиров?
А Бог ему с неба:
– Я десять лет собирал вас, таких, на одну посудину…
Мистика, скажете вы. Но лейтенантик из милицейских другого мнения:
– Перепил касатик. – И аннулировал мои водительские права.
И все же мистика была. Потом. Коллега Заварзин отделался легкой хромотой. Я перенес труднейшую операцию на лице, два месяца лечился и еще месяц ходил на службу с наклейками.
С ужасом ждал, но ни разу, ни одной минуты не чувствовал острой боли.
С тех пор моя философия – не оставлять человека наедине с собой, примется исповедаться и… Потому для отвлечения рассказываю грешникам были и небылицы.
Впрочем, небылицы – не про меня.
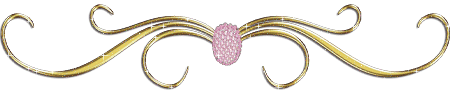
Творческий вечер Анатолия Малярова. г. Николаев, 2011 год.