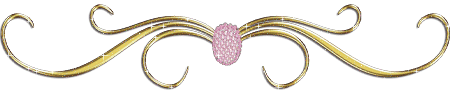Евгений Альбертович Куцев
Родился 15 апреля 1958 г. в Николаеве. В 1978 году закончил Херсонское морское училище, а в 1988 - Николаевский педагогический институт. Работал в Черноморском морском пароходстве матросом, штурманом, затем на николаевском судостроительном заводе им. 61 коммунара капитаном буксира.
Впоследствии Евгений Альбертович преподавал историю в школе-интернате № 5. Сейчас он трудится в Николаевской морской школе заместителем директора по воспитательной работе.
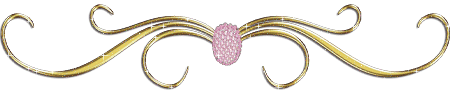
Букет
Это не знаменитый Привоз. Это не Староконный рынок, одно название которого – уже легенда и целая поэма. Это их скромный родственник: маленький утренний базарчик, возникающий исключительно по субботам на обочинах внутриквартального проезда. Тут нет лавок, тут нет павильонов. Базарчику всего несколько лет, и его история не украшена заметными событиями. Я даже сомневаюсь, есть ли у него паспорт или свидетельство о рождении. Но в нём есть нечто, и ради этого «нечто» в погожее субботнее утро стоит проснуться пораньше.
 Позвольте взять вас под ручку, мы прогуляемся вместе.
Позвольте взять вас под ручку, мы прогуляемся вместе.
В это время город ещё дышит ночью, солнце где-то за домами только-только потягивается, не спешит подниматься, улицы пусты, асфальт влажный, на километр проспекта – одна – две машины и пара «собачников» с питомцами на поводках. Но обратите внимание на воздух. Вдохните его полной грудью. Летом такой воздух возвращается в город только под утро, и сейчас им можно не просто дышать, им можно напиться, как стаканчиком прохладного лёгкого сока. Он вас взбодрит, он вас окончательно разбудит, и вы всё услышите и всё поймёте.
Мы почти пришли. Вот за тот дом, и сразу справа.
Видите, из подъезда вышла женщина с кошёлкой? Видите? И из переулка нам навстречу люди. Они торопятся, у них есть опыт, и правильно делают. Они знают, когда не надо опаздывать. А вон та дама, за деревьями, глянула в нашу сторону и прибавила ходу, она боится, что мы побежим с ней наперегонки. Давайте её обрадуем и замедлим шаг. Ей будет приятно, она первая, и вам будет приятно, потому что дама не догадается, что вы, именно вы подарили ей кусочек хорошего настроения.
Поворачиваем за угол, и … перед глазами открывается картина, совершенно невообразимая в будний день. Утреннее затишье вспыхивает красками и движением. Во дворе праздник. С двух сторон дорожки яркими гирляндами протянулись столики, наполненные дачными вкусностями и ароматами всех цветов радуги. Позади столиков второй линией выстроились и остывают припавшие пылью старенькие хозяйские легковушки. Дверцы и багажники распахнуты, из машин ещё много чего не выгрузили, но торговля уже началась.
– Утро доброе!
– Здравствуйте. Ой, а мы сегодня припоздали тришечки. Коля! Коля, там на заднёму сиденни масло в ведёрке, неси сюда.
Первый час работы рынка – это час «своих» покупателей и продавцов. Мы давно знакомы, мы пригляделись друг к другу, выбрали друг друга и стали хорошими соседями и почти друзьями. Мы держим слово и стараемся не подводить.
– Масло? Ой, извините, больше нет. Я на продажу не роблю масло, это под заказ. Молочко? Молочко есть. Вам какое налить – утришнее или вечернее? И то и то есть.
И вам нальют молочка. У купленного молочка есть восхитительная и многими горожанами подзабытая особенность: оно пахнет живой коровой, а через пару дней может прокиснуть. И это вас совсем не огорчит.
Пройдёмте дальше. Нам интересно пообщаться с «ранними» продавцами. Почему с «ранними»? – потому что здесь есть и «поздние». Вот они – одинокие, сидят, топчутся, ждут, около них пока не стоит очередь, но их время придёт, придёт чуть позже, когда на базарчике станет людно.
А что там? Идёмте, глянем. Знаете, по-моему, это индюк. Но какой! Это же не индюк, это же целый страус!
– Здравствуйте. Нет-нет, мы сразу честно признаемся: нам не покупать. Нам полюбоваться. Ну, какой красавец! Спасибо, спасибо, да, такое запоминается.
Я так думаю, он у вас на прилавке не заскучает.
Проходим несколько столиков, к черноволосой круглолицей девушке – знакомой «молочнице». Выглядит сегодня несколько расстроенной, а причина расстройства – рядышком, перед ней в кастрюльке, накрытой марлей. Она делится с нами своим огорчением: творог недоглядела, получился сухой. Встала в три утра и закрутилась – там и сметану надо делать, и корову доить, и сливки, а ещё молозиво варить, да, да, вот оно, золотистое и до сих пор тёплое, в тазике…
Но всё же, всё же, если вы хотите хорошую сметану и вкусный творог, купите у кареглазой дивчины. Не пожалеете. И сама девушка – чудо! Она не вполне осознаёт, каким обладает сокровищем. Отвлекитесь на секундочку от покупок. Перед вами душевная теплота и умение. Великое, бесценное умение, переданное мамой, бабушкой, а может быть и домашним палисадником, и огородом, и знакомым с детства щебетанием жёлтых цыплят, и весенним цветением яблони под окнами. При желании вы можете тут же, не сходя с места, увидеть её дом и двор, увитый виноградом, и даже услышать рассветное звучание просыпающегося села. Всё это великолепие девушка тоже привезла с собой. И совершенно бесплатно.
– Всего доброго и до свиданья! Придём, придём, через недельку, обязательно.
Дальше у нас ряд овощей. Я вам покажу, где купить сладкий бурячок.
Около ящиков с фруктами и овощами стоит старушка с палочкой и, поднеся к самым глазам потрёпанный кошелёк, выуживает из него бумажки.
– Бабушка, вам сколько картошки? Килограмм?
– Деточка, нет, мне штучки четыре, пять, больше не надо, мне хватит.
- Бабушка! – хозяйка соседнего овощного прилавка подходит и протягивает старушке бурячок и пару морковок. – Нате вам на борщик. Возьмите, возьмите. Да не надо мне ваших денег, так возьмите. И капусточку возьмите.
Старушка в замешательстве, но заботливые руки уже уложили овощи в её сумочку.
– Спасибо, доця, спасибо. Мне семьдесят пять год скоро. Дай тебе Боже!
Короткая пауза. Провожаем бабушку молчаливыми взглядами.
Да… Ну вот. Только собрался расхвалить вам фрукты-овощи, но нас прерывают:
– Здравствуйте!
– Здравствуйте! – мы с подошедшим мужчиной обмениваемся улыбками, и тут же, без перехода, от него вопрос хозяйке:
– А почем морковка?
Теперь я вам скажу шепотом, чтобы продавщица не услышала: это тоже мой знакомый, профессор. Хотя можно было не шептать, и вообще обойтись без уточнений. Кому какое дело – профессор он или не профессор? Он приличный человек и постоянный покупатель. Этого вполне достаточно. Рядом – его жена. Она доцент. Смотрите, она даже на рынке помнит, кто её муж. И на здоровье. Пусть помнит. Это совсем не наши проблемы.
Наша задача – приобрести ещё кусочек мяса или что-то в этом роде. На базарчике выбор мясного просто шикарный, но и тут есть свои «но». Вы же хотите, чтобы мясо соответствовало названию и тому, что вы хотите?
Пойдёмте тогда к Саше. Он вам честно подскажет: берите вот этот кусочек, а этот не берите. Есть свежайший фарш, из него непременно получатся вкусные котлеты, но чуть-чуть грубоват, сломалась мелкая насадка, и вашим пожилым родителям может не понравиться. Саша скажет правду. Саша не задумывается над тем, чтобы кому-то угодить. Как раз он-то и знает себе цену. Разговаривает он всегда и с любым собеседником, в том числе и с нами, как бы врастяжку, с едва уловимой иронией. Ему чужды суетливость и поспешность выводов. Он крепок, рассудителен, на редкость справедлив, и терпеть не может политических балаболов. Не цепляйте его разговорами о политике. Не советую. Лучше о чём-нибудь живом. И у вас будет шанс узнать гораздо больше, чем показывают по местному телевизору.
От Саши вы принесёте домой и достоверную новость, и именно тот кусочек мяса, который был нужен. А, может быть, даже лучше.
Всё? Мы ничего не забыли? Можно возвращаться.
Базарчик, базарчик, круги на воде…
Жизнь на базарчике, постепенно затихая, продолжит вертеться ещё до полудня, а мы с чувством выполненного долга распрощаемся с ним до следующей субботы. Мы ещё не раз наведаемся сюда, поговорим с теми, с кем не успели поговорить сегодня, и каждый раз, собрав по стебельку, будем уносить домой дивный букет полевых даров и впечатлений. Нам нравится стихийный субботний базарчик, и нравится по многим причинам. Кстати, у базарчика есть и недоброжелатели, да-да, не удивляйтесь, и, как ни странно, по тем же самым причинам. Но не это главное.
Главное то, что мы приходим сюда к хорошим цветущим людям. Мы нужны друг другу, мы друг другу интересны, мы все равны. Как в детстве, мы все в коротеньких штанишках, и речи наши откровенны и бесхитростны. Здесь вам всегда рады и никогда не нагрубят, конечно, если вы сами не дадите повода. Но ежели здесь человеку прямо в лицо выскажут, что он придурок, так он таки придурок. А если лично вам скажут «спасибо», то сказано будет искренне, сказано от души. «Спасибо» будет – настоящее.
И это прелестно.
* * *

Лиса рассветная
Как иногда бывает: живём мы, живём, дни прокатываются, копятся, наслаиваются друг на друга пачкой листов календарных, а проходит время, начинаешь в памяти рыться – вспомнить толком и нечего. Иные дни, сколько ни вороши их, что с расстояния близкого, что с далёкого – на вид и на вкус словно каша-размазня: однообразные, мутные. Обидные дни. Зацепиться в них не за что: вроде и был где-то, как-то жил, что-то делал… а что? Конечно, случается и наоборот – другая крайность. Есть, говорят, среди прочих житейских законов этакий неписаный «закон плотного времени», когда в одни сутки столько всевозможных событий втискивается, что их количества при обычном, размеренном наполнении и на месяц с лихвой хватило бы. Такие дни хорошо помнятся и по напряжению эмоциональному, и по насыщенности, и по тому, что заранее предугадать их практически невозможно.
Бывают моменты ещё более удивительные: коротеньким мгновением, неожиданным контуром возникнет что-то перед глазами, мелькнёт внезапно, ослепительно, заставит вздрогнуть, как от выстрела, и так в сознание и в память вклинится, что годы и годы пройдут, а промелькнувшая картинка всё живёт внутри нас, не тускнеет, не туманится. Вроде бы и мелочь, но нет-нет, а возвращает она к себе, всплывает из прошлого, заставляя ещё и ещё раз пересматривать виденное. И что нам в этой картинке? Личное ли это наше восприятие или нечто большее? Утверждать не берусь. Могу лишь познакомить с историей и обстоятельствами одного из таких мгновений. Будет на то ваша добрая воля – рассудите сами.
 Начало осени. Жёлто-зелёное, лёгкое, покрытое тишиной тающей дрёмы утро. Солнечные лучи уже продырявили где-то полоску облаков, веером раскинулись над восточной частью неба, обозначив восход. Половина шестого. Из одного областного центра в другой спешит междугородный автобус. Он только что попетлял по просыпающимся улицам, пересёк безликую пригородную зону с долгими серыми заборами, вырвался из города на трассу, обогнул аэродром и набрал нужную для движения по прямой линии скорость. Ставший равномерным негромкий гул двигателя внутри автобуса начал клонить в сон явно не выспавшихся пассажиров раннего рейса. Большинство из них уже откинули назад спинки сидений и, устроившись поудобнее, прикрыли веки, намереваясь спать до прибытия в пункт назначения. Собирался задремать и я, но чуть позже, сразу после того, как представится возможность окончательно сказать городу «до свидания».
Начало осени. Жёлто-зелёное, лёгкое, покрытое тишиной тающей дрёмы утро. Солнечные лучи уже продырявили где-то полоску облаков, веером раскинулись над восточной частью неба, обозначив восход. Половина шестого. Из одного областного центра в другой спешит междугородный автобус. Он только что попетлял по просыпающимся улицам, пересёк безликую пригородную зону с долгими серыми заборами, вырвался из города на трассу, обогнул аэродром и набрал нужную для движения по прямой линии скорость. Ставший равномерным негромкий гул двигателя внутри автобуса начал клонить в сон явно не выспавшихся пассажиров раннего рейса. Большинство из них уже откинули назад спинки сидений и, устроившись поудобнее, прикрыли веки, намереваясь спать до прибытия в пункт назначения. Собирался задремать и я, но чуть позже, сразу после того, как представится возможность окончательно сказать городу «до свидания».
Десятки раз мне приходилось ездить по этой дороге, где знакомым стал не только каждый поворот, но едва ли не каждое дерево и каждый дорожный указатель. Всегда одно и то же. Вот-вот, совсем скоро, в определённом месте, прежде чем закрыть глаза, можно будет повернуть голову направо и перед длительной разлукой взглянуть в последний раз на родной город. Он на какое-то время появится в перспективе за широким полем и аэродромом, появится тоненькой шероховатой полоской многоэтажек, затем отодвинется, пропадёт и отпустит и меня, и уезжающих из него путников в свободный полёт: кого-то на день, а кого-то на срок гораздо больший.
Примерно в том же месте, откуда справа по ходу движения вдалеке виден город, с левой стороны за углублением кювета параллельно трассе сотнями метров тянется и навевает тоску земляное возвышение – бруствер, сплошь поросший живою изгородью из камыша. Полузасохший камыш летит и летит грязноватой лентой мимо, застилая другую сторону горизонта, рябит в глазах, иногда в проплешинах показывает скрытое за ним перепаханное поле и тут же смыкается, не обещая ничего примечательного.
Вот очередное окошко в камышовой стене подлетело навстречу, но в открывшимся просвете на этот раз – нет, не поле. В нём, на переднем плане, прямо на краю… В первую секунду не осознал, что это: собака, щенки? Вывернувшись в кресле, проводил глазами. Нет, не собака. Да это лиса! Настоящая лиса и рядом с нею трое маленьких щенков-лисят. Картинка стремительно съехала ещё дальше, вспыхнула в лучах восходящего солнца и пропала, оставив только фон – золотистое рассветное сияние.
В глазах сияющая картинка отпечаталась, словно стоп-кадр. Лиса и трое лисят в обрамлении камышовых зарослей. Вроде бы ничего особенного. Всего-навсего группа диких животных, замеченная совершенно случайно. Ну не в зоопарке они, а на воле, что тоже в общем-то не редкость. Погодите. Погодите, всё-таки что-то здесь не то…
Автобус мчался вперёд, пассажиры дремали, а я пытался понять причину странной притягательности промелькнувшего видения. Что-то незаурядное, не совсем обычное было в нём. Лиса с тремя лисятами. Но почему они так смотрелись? Что это была за группа! Без преувеличения, в этот коротенький миг группа животных выглядела словно произведение скульптора или картина, выполненная рукой опытного мастера. С продуманной и в то же время непринуждённой расстановкой персонажей, с изумительной пластикой, передающей внутренние переживания и характеры, с тончайшими оттенками настроения, отображение которых доступно только таланту великого художника! Это был миг откровения, а автором творения, в котором простота и наивность форм сочетались с высочайшим искусством, конечно же, являлась сама Природа.
Внешне композиция была действительно бесхитростной: в центре стоит взрослая лисица и напряженно смотрит куда-то вдаль. Щенок справа замер и старательно копирует её позу, за ним другой: наклонился, выискивает что-то в траве. По левую сторону – третий детёныш стоит в той же позе, что и первый, но глядит не вдаль, а на мать. Вот и всё. Однако расстановка персонажей – это ещё не расцвеченное полотно, это только эскиз, заготовка, показывающая самые общие очертания. Главное, основное содержание картины невероятным образом проступило в деталях уже после того, как расстояние и время скрыли её из виду.
Даже сейчас, спустя много лет, картина эта возникает из глубин памяти в мельчайших подробностях. Мало того, память и воображение позволяют рассмотреть её в различных ракурсах, повернуть в ту или другую сторону, приподняться над нею, посмотреть туда же, куда так пристально всматривалась взрослая лиса, и понять, почему, с какой целью привела она своих детёнышей именно в это место в столь ранний час.
Не машины разглядывала она. Не автобусы.
Город.
Изучающе, с тревогой и настороженностью лиса смотрела поверх дороги на окутанный утренним маревом город. На дальнее скопище каменных клыков и берлог, где обитает и откуда приходит в её жизнь главная опасность – изобретательное, коварное создание, рядом с которым ей и её потомству очень сложно существовать. Она показывала город детям. Она обучала детей. Она знала, когда и в какое место нужно их для этого привести.
Трое детёнышей. В позе каждого из них безошибочно читался характер. Один почувствовал настрой матери, подражает ей, принюхивается: «Я стараюсь, но пока не понимаю…». Второй вертится, играет… Третий вопросительно смотрит на мать, ждёт подсказки. Разное поведение. Разные судьбы. И такая обманчивая, такая тоненькая надежда на благополучие.
Автобус ехал и ехал, а картинка всё стояла перед моими глазами. Но она не молчала, она продолжала рассказывать и звала выйти за рамки остановившегося мгновения. Я прекрасно понимал, что с нею произойдёт, если уйти от стоп-кадра и возобновить движение во времени: пройдёт секунда-другая и картинка, увы, развалится, утратит смысловую целостность и очарование, звериное семейство вернётся в повседневность, в ожидание и постоянный поиск еды. В позах животных исчезнет «скульптурность», исчезнет грация и чистота линий. Любования не будет. Не будет созерцательного комфорта. Какое может быть любование, когда приходится убегать, прятаться, уводить от норы врагов и путать следы. Можно понаблюдать, но любоваться – вряд ли.
Иногда будет голодно. Будут дожди и сырость. Будет охота на полевых мышей, к счастью, вон их сколько бегает в этом году. Редко, правда, но будут и украденные в деревне куры – я не идеализирую материнскую заботу хищницы. Да, лисице приходится проявлять изворотливость. При удобном случае она ворует вполне сознательно, не отличая это занятие от охоты. Кроме того, она знает, что однажды за воровство может поплатиться жизнью. Но она будет продолжать это делать, будет. И ради своих детей, и просто ради выживания.
Я не рискую приписывать животным сугубо человеческие качества. И уж ни в коей мере не хотелось бы заниматься отсебятиной и что-то додумывать, дорисовывать в подмеченной сценке. Это лишнее. Признаюсь: ни у одного из зверьков я не успел рассмотреть выражения глаз. Но то, что в тот момент глаза лисицы-матери светились достоинством и мудростью, – за это могу поручиться. Она не просто смотрела на город. Она всматривалась в будущее.
Вы скажете, мне что-то привиделось? Или я преувеличиваю, «подогреваю» свои воспоминания и поэтому сценка с лисой и лисятами до сих пор живёт во мне остановившимся мгновением? Вполне вероятно, нечаянное позирование животных было всего лишь сиюминутной случайностью, а реальность их жизни, действительно стоящая изучения и отображения, совершенно в ином. Что ж, такое объяснение небезосновательно и вполне допустимо. В самом деле, зачем уделять столько внимания крохотному отрезку времени?
И всё же – отчего лиса, увиденная на рассвете, так врезалась в память? Что задела в душе? Чем растревожила?
Разные песни мы поём: длинные, короткие, когда весёлые, когда грустные. И что песни, что события, сплошь да рядом переплетаются они или ходят бок о бок: только что была песня разухабистая, озорная, да с танцами жаркими, и тут же, почти без паузы, в одно настроение, в один тон – песня тихая, задумчивая.
Разными событиями дни наши наполняются, ох, разными…
* * *

На даче
На той же речке, у которой стоит крупный областной город, но километрах в двадцати выше по течению, между двумя зелёными ложбинами край поднимающегося берега облеплен небольшими, издали похожими друг на друга домиками из светлого кирпича. Вокруг каждого из домиков такие же небольшие и одинаковые по размеру приусадебные участки, где обязателен огород, виноградник и несколько фруктовых деревьев. Это уже не город, но ещё не совсем деревня. Перед нами дачный кооператив.
Середина августа, багрово-фиолетовый вечер и полное безветрие. Время, как и ровная поверхность сонной речки, почти не движется. Во дворе четвёртой, считая от реки, дачи, стоящей не на склоне, а на плоской верхушке холма, горит костёр; над огнём, по всем правилам ожидаемого удовольствия, висит булькающий закопчённый котелок, в котелке варится уха.
 Рядом с костром расположились трое пожилых мужчин-пенсионеров. Один из них, коренастый, с серебристой аккуратно подстриженной бородкой – хозяин дачи, человек редко встречаемой в наших краях профессии: капитан дальнего плавания Иван Тимофеевич. Он полулежит в шезлонге, накинув на плечи шерстяную вязаную кофту, и курит трубку, благодушно щурясь на языки пламени. Левая его рука, картинно отведенная в сторону, опирается на палочку.
Рядом с костром расположились трое пожилых мужчин-пенсионеров. Один из них, коренастый, с серебристой аккуратно подстриженной бородкой – хозяин дачи, человек редко встречаемой в наших краях профессии: капитан дальнего плавания Иван Тимофеевич. Он полулежит в шезлонге, накинув на плечи шерстяную вязаную кофту, и курит трубку, благодушно щурясь на языки пламени. Левая его рука, картинно отведенная в сторону, опирается на палочку.
Второй, давний друг хозяина дачи, высокий и сухощавый, время от времени отгоняя от себя комаров, раскладывает посуду, хлеб и ещё какую-то снедь вокруг горящей в стеклянной банке свечи на накрытом клеёнкой лёгком пластиковом столе. Друг капитана тоже дачник, владелец соседнего участка, и тоже бывший моряк, только не капитан, а старший механик. Третий в компании – старожил дачного посёлка, его душа и опекун, вездесущий и всё про всех знающий дядя Сеня. Этот с ложкой пристроился на корточках у костра, подкладывает в огонь щепки и следит за приготовлением ухи.
Между присутствующими царит полное согласие, совершенно очевидно, что мужчины давно знакомы, понимают друг друга с полуслова, и находиться в общей компании всем троим приятно. Их дружеские разговоры определённой темы не имеют и вьются вокруг рыбалки, воспоминаний и всякой житейской всячины.
– Николай, ты чего такой грустный? – после затянувшейся паузы бодро говорит капитан, со смешинкой глядя на друга. – По жене соскучился, что ли?
– Нет, это она по цивилизации соскучилась, – с деланным раздражением реагирует тот на подковырку. – Поехала к детям. Хоть пару ночей без комаров поспит. Тут же у вас… а, чёрт! – он прихлопывает очередного комара. – Извращенцы какие-то. На даче, я так соображаю, отдыхать надо и получать удовольствие, а комаров кормить и горбатиться тут над всякими грядками, а потом спину неделю лечить – да гори оно пропадом!
– О! А зачем же ты тогда дачу покупал?
– А сколько я бываю на этой даче? Это жена у меня любительница, ей нравится. А моя бы воля, я сюда вообще не приезжал бы.
– Так во-от как ты хочешь? Значит, жене дачу купил? На жене выезжаешь, она тебе и помидорчиков, и огурчиков свеженьких, и петрушечку, а ты в городе сидишь и руководишь дистанционно? Вот не знал, что друг у меня такой ленивый, не знал. А ты вот какой, оказывается. Ленивый, корыстный, да ещё с барскими замашками.
– Тимофеевич! – с улыбкой поддерживает тему дядя Сеня, – А на следующий раз пусть Николай приедет, рыбы наловит, а мы к нему в гости заявимся, его уху оценим, а? С бутылкой придём.
– Ага, сейчас, – не давая парировать выпад, продолжает капитан, – от него дождёшься. Натура в человеке такая. От него не то, что рыбы… гляди, гляди! Ты видишь, как он хлеб режет? Вот толстые куски – это он точно себе нарезал и отодвинул, а нам горбушки подсунет. И во всём он так. Ох, Николай, Николай… – лицо отдыхающего в шезлонге принимает комически-скорбное выражение.
– А ну вас, – отмахивается Николай, – вам бы только трепаться. Говоруны. Где уха? У меня уже всё готово.
– И у меня готово, – дядя Сеня, подложив под ушки котелка полотенце, чтобы не обжечься, предъявляет «гвоздь программы».
Мужчины рассаживаются за столом. Вечерние дачные посиделки достигают сладостной кульминации. Небо над посёлком, даже в стороне заката, успело потемнеть, наполнилось яркими звёздами и сеет в пространстве вокруг догорающего костра трели цикад и сверчков. Откуда-то со стороны дальних дач доносятся едва слышимые отголоски музыки, временами – приглушённые голоса и смех. Ночным говором, рассыпчатым кваканьем лягушек отзываются с противоположного берега почерневшие камышовые заросли. Река с вершины холма видна как на ладони, дышит спокойствием, зеркальна, тиха, лишь изредка потревожит её блестящую поверхность рябь от всплеснувшейся рыбы, и тут же рябь разойдётся кругами, растечётся и разгладится до следующего, теперь уже совсем в другом месте одинокого беззвучного всплеска. В душах у сидящих за столом старых друзей – умиротворение и благостность. Вся окружающая обстановка существует исключительно для них.
– Вот ты говоришь, горбатиться не желаешь, – пробуя с кончика ложки огненную уху, не отстаёт капитан. – Ох, горячая! А ты сделай, как я себе сделал. Я когда дачей обзавёлся, я тут всё перестроил: деревья поменял, газон сделал, бассейн – вот завтра невестка приедет с внуками, будут плескаться. А огород оставил, только поменьше, так, чисто символически. Зато на деревьях у меня и персики, и абрикосы, и что ты хочешь. Руку протянул – сорвал. Земля тут, правда, тяжёлая, это да.
– Дальше, в низинке, земля хорошая, а тут ракушняк, – добавляет подробностей дядя Сеня. – Тут, кому участки достались, машинами чернозём завозили. А вообще это место самое лучшее считалось. Когда завод участки давал – мы бумажки в профкоме тянули, с номерками. Кто начальник, кто не начальник, не смотрели. По-честному делили, – рассказчик оживляется: – А та вот дача, что на седьмой линии со склона сползла, – это парторга была дача, сам бумажку вытащил. Недовольный потом ходил, как чувствовал.
– Это он вас, троглодитов, чувствовал. Ваша, небось, работа, – в свою очередь запускает подковырку механик Николай и рубит рукой воздух. – И парторга теперь у вас нет, и контору его грохнули, и даже дачу – и ту с обрыва столкнули. Добрые вы люди, как я погляжу.
– Да ла-адно, добрые. Насмотрелся я на них. А вот это, – тихонько постукивая черенком ложки по котелку, старик-капитан провозглашает более существенное, – вот это самая правильная уха: в казанке должна быть, с дымком и на свежем воздухе. Рыба – это уже второе дело: что наловили, то и оприходуем. Да, а на пароходе был у меня такой помощник. По политической части. Застал я ещё то время. Помню, гонял его с мостика. А что? Язык у него хорошо подвешен был, а работы нет, так он или в каюте сидит, или в рубке под ногами путается. А деньги по тем временам, между прочим, получал приличные, – капитан на секунду грустнеет и задумчиво поглаживает бородку. – И взрослые, вроде бы, люди, а до всего задним умом доходим. Да и сейчас то же самое. А что, не правду я говорю?
– Ваня, глянь-ка, – сухощавый Николай, не отвечая, откладывает ложку и, вытянув шею, отчего становится ещё тоньше, вглядывается в темень у решётчатых ворот. – Вроде стоит кто за воротами. Или ковыряет что-то. Не к тебе пришли?
В темноте за воротами маячит чья-то неподвижная тень. Дядя Сеня, осознавая себя ответственным за положение, принимает строгий вид, быстро вытирает губы салфеткой, встаёт, решительно направляется к воротам и уже оттуда, разглядев пришедшего, радостно кричит:
– Это дед Матвей, с рыбалки! Передохнуть остановился!
– Так давай его сюда! Пусть проходит, с нами посидит, – распоряжается хозяин дачи. – Чего на ногах торчать-то?
– А что за дед? Дачник что ли? Знакомый? – вполголоса интересуется Николай, пока дядя Сеня, приняв у старика удочки и подмокшую снизу засаленную холщовую сумку, ведёт неожиданного гостя к столу.
– Нет, это не здешний, деревенский из Ивановки – доброжелательной скороговоркой, тоже вполголоса коротко и точно поясняет капитан, – виделись как-то на рыбалке, хороший дед, стоящий.
– Доброго здоровьица! Вечер добрый! – приветствует и кивает головой каждому дед из деревни Ивановка. Деду Матвею далеко за восемьдесят, однако, невзирая на возраст, он подвижен, свеж и регулярно одним и тем же маршрутом ходит к речке и обратно верхней дорогой через посёлок. Он доволен, что его, не заподозрив в навязчивости, затащили «на огонёк» на территорию богатой (как сам он считает) дачи, и совсем не прочь задержаться, посидеть в мужской вольной компании, поговорить, послушать и набраться новых впечатлений.
Гостя усаживают за стол, и дед Матвей, признав во владельце дачи человека ему знакомого, подвигает поближе к себе тарелку и хлеб и без промедления включается в беседу:
– А я, значит, хожу, хожу и думаю: чья это дача? Думаю: бизнесмена дача. А это, стало быть, ваша дача, – дед припоминает, – Иван… – тут дед запинается и, учитывая обстоятельства встречи, решается уточнить, – как по отчеству Вас?
– Тимофеевич, Иван Тимофеевич, – подсказывает дядя Сеня.
– Ага, ага…
– Сеня, давай проще, тут все свои, – хозяин слегка морщится. – Не порть мальчишник. Когда мы так сидели? Ужин, воздух, звёзды, жёны в городе, а? Капитан потягивается, откидывается на спинку стула и тащит из кармана кофты трубку:
– Как рыбалка сегодня, дед Матвей?
– Есть немножко, есть. Карасики. Пять штучек несу. А вот товарищ ваш, – дед поворачивается к сухощавому, – не знаю по имени…
– Николай.
– Николай, ага. Видел вас на даче, видел, да. А на речке не видал ни разу. Не рыбак, нет, не рыбак. Рыбку, думаю, ловить не любите? – участливо обращается дед Матвей к Николаю. Тот, мельком глянув на деда, что-то невнятно произносит, отрицательно вертит головой и продолжает есть.
– О-о, дед, вот тут ты не угадал, – Иван Тимофеевич берёт со стола свечу и, капая воском, от её огня раскуривает трубку, – Он среди нас самый что ни на есть рыбак. Во всех океанах рыбу ловил. Коля, ты на траулерах сколько лет отработал? Тридцать?
– Двадцать восемь.
– Ишь ты! – Вскинув брови, удивляется дед Матвей и с удвоенным интересом обращается к сидящему напротив соседу. – Это что же вы? Всю жизнь в морях?
– Что значит «всю»? – неохотно отвечает механик. – С отпусками, конечно. До пенсии немного не дотянул, бросил.
– Так и Тимофеевич тоже моряк, – говорит дядя Семён деду. – Не знал? Капитаном был, на больших пароходах. За границу плавал. И сын у него сейчас капитаном ходит.
Услышанное путает мысли деда Матвея и он, потеряв ниточку разговора, робеет и умолкает, ёрзая на стуле.
– Во, кстати! Я вам сейчас покажу, – не замечая смущения деда, говорит совсем не солидный на отдыхе Иван Тимофеевич и, поколдовав несколько секунд над широким экраном мобильного телефона, предъявляет всем поочерёдно фотографию, – старший вчера прислал. На приёмке сейчас, в Китае пароход получает. Это он в гостинице, в ресторане.
– А слева – это шоколадный фонтанчик, – продемонстрировав фотографию, продолжает капитан. – Шоколад течёт, подходи, бери бесплатно, сколько хочешь. Сын говорит – а они там уже две недели живут – говорит, чего только в тот фонтанчик не совали. Говорит, жалели, что сала там нет, а то прислал бы фото сала в шоколаде, – широко улыбается старый капитан, отец капитана молодого.
Рядом со столом громким стрёкотом, да таким, что перекрывает остальные, вступает в вечерний хор невидимый под ближайшим розовым кустом сверчок.
– Ну, теперь сидеть будем, как в музыкальной шкатулке, – говорит Николай.
– А ничего, пускай чирикает, так ночь веселее, – защищает звонкого сверчка Иван Тимофеевич и тут же вспоминает сверчка другого. – Раз было у меня в Красном море, вот такой же на крыле мостика, под пайолом две ночи орал. А громкий, зараза, египетский какой-то, залетел пока Суэцким каналом шли. Вот тот реально работать мешал, и чего только мы не делали: и пайол поднимали, и воду вёдрами лили, а ему хоть бы что. Помолчит, помолчит и снова орёт.
Доедая уху, увлечённо прислушивается дед Матвей к необычным разговорам. В диковинку ему и шоколадный фонтанчик, и сверчок из Красного моря, и то, что про Китай мужики вспомнили, будто про соседнюю деревню. И это ведь только начало, дед по опыту знает, что разговоры-то основные потекут после ужина, и течь им неспешно до той поры, пока ночная прохлада зябким прикосновением не напомнит пенсионерам-дачникам о позднем времени и не разведёт их, зевающих, по домикам и комнатушкам с тикающими у кровати часами.
«Интересный народ, – думает дед Матвей и глядит то на смешливого прихрамывающего капитана, то на сдержанного и серьёзного Николая, – и как же это они успели везде побывать?»
Много чудного услышит сегодня и узнает от пожилых земляков гость, так удачно оказавшийся в нужную минуту у ворот их дачи. И про венесуэльский копеечный бензин, и про невообразимых рыб, попадавшихся в тралы Николая, про Малай-базар и про незнакомый, чёрт знает где находящийся, богатый и одновременно нищий Мозамбик. И сам дед через час-другой в свою очередь сумеет крепко удивить видавших виды моряков, поведав подробно, но не с горечью, а с лёгкой иронией о том, как единственный раз в жизни, в молодости, тоже побывал за рубежом, правда не по своей воле. Как с первого до последнего месяца все четыре военных года прожил где-то на границе с Францией в свинарнике, батрача на немецкого бауэра.
Но, так или иначе, с каким бы наслаждением и как бы долго не сидеть пенсионерам за столиком среди летящей на огонь мошкары, дачный вечер и беседы у костра всё же мягко угаснут, закончатся, и всё ненужное движение, все посторонние звуки приглушит и растворит в себе необъятная сверчковая ночь. Луна, набрав яркость, вскарабкается выше самых высоких деревьев, чтобы осветить ивановскому деду-рыбаку дорогу домой. В продлевающем жизнь приподнятом настроении дед Матвей будет брести по спящему дачному проулку, иногда останавливаться для отдыха и, отвечая вслух своим мыслям, бормотать:
– Венесуэла… и где эта Венесуэла? Вот прилипла к языку, окаянная.
О-хо-хо… ладные мужики.
* * *

Тучи
Вне всяких сомнений, Договор существовал. Гласный или негласный – не столь важно. Важно то, что он существовал; и город не должен был его нарушать. А он взял – и нарушил.
Чёрные тучи, как стая волков, полдня ходили кругами над городом, ворча, скалясь, угрожая, но не решаясь напасть. Город, конечно же, видел их и побаивался, интересовался прогнозом, заранее устанавливал навесы над прилавками и доставал зонты. Но время шло, ничего не происходило, и настороженность горожан постепенно начала спадать. Никто не понимал и даже не догадывался, что тучи попросту тянули время, готовились к прыжку, присматривались и выжидали. В наступивших ранее обычного часа сумерках они потяжелели, примолкли и почти не шевелились в душном застывшем воздухе.
Тучи накинулись на город ближе к ночи, внезапно, после недолгого затишья.
Вначале где-то далеко на западе, в кровавой полосе между тучами и горизонтом, возник ветер: молча, прячась за поднятой перед собою грязно-жёлтой стеной песка и пыли, он устремился к городу, в разбеге всё больше и больше набирая силу. Подлетев вплотную, ветер победно завопил и ударил город в бок. Плотная пылевая стена с шипением обрушилась на деревья, на крыши домов, слепящим потоком хлынула по улицам и переулкам, швыряя клочья мусора и колючий песок в лица оторопевшим прохожим. Хлопнули, зазвенели дробно битыми стёклами зазевавшиеся форточки и окна.
Ослеплённый пылью, пригнувший голову, город не мог заметить, как в этот момент широкое днище туч дрогнуло, размякло, выпустило из себя тысячи тонких хищных щупалец и стало опускаться вниз. Ветер, бросив на тротуарах крутящиеся вихри, единым порывом метнулся навстречу щупальцам и, пролетев между ними, скрылся внутри нависшей над крышами черноты.
 На город упала вода.
На город упала вода.
Город любил дождевую воду. Любил всегда. За годы, прошедшие со дня рождения, много летних ливней прошумело над ним, и весёлых весенних гроз, и задумчивых затяжных осенних дождей. Город помнил их все до единого, помнил с самого детства. Когда бы ни приходили к нему дожди – они всегда приходили вовремя, предлагали зажмуриться, повернуться лицом к живительным струям и смыть с себя всё наносное, надуманное и пустое, всё то, что неопрятным налётом накопилось в душе за время между ливнями.
Дожди дарили городу радостную возможность услышать мягкий благодарный шелест травы и помолодевших листьев, с наслаждением пьющих самый лучший в мире напиток. Когда же дожди уходили, то оставляли после себя радугу, журчащие вдоль бордюров ручьи, бегущую за бумажными корабликами детвору и ощущение лёгкости. Всё было правильно. Всё было так, как должно быть.
Дожди были добрыми. Дожди были терпеливыми и умели прощать шалости.
Но что-то изменилось. Первоначально изменилось не в дождях, а в самом городе. Изменилось не «вдруг», не внезапно и не сразу. Сперва это было вроде бы ничем не обоснованное ощущение неловкости, зыбкое и кратковременное, оно появлялось из ниоткуда и пропадало в никуда, пропадало быстро, особенно не настораживая и не понуждая к поиску причин. Городу нужно было расти, и он рос, огибал берёзовые рощи, запаковывал мелкие речушки в гранитный пенал, превращал кленовые перелески с небольшими озёрами в гладкие подстриженные парки. Но чувство неловкости не исчезало, оно появлялось вновь и вновь, появлялось не то чтобы чаще – нет, но со временем при каждом новом появлении чувство это становилось всё гуще, всё болезненней и неприятнее, и с этим уже нужно было что-то делать. Но что?
Поначалу город пробовал отсрочить принятие решений, наивно прятался за многочисленные повседневные заботы, убегал в обсуждение планов, откладывал на год, на квартал, на месяц, но в конце концов вынужден был признаться себе, что отсрочки – не более чем пустейший самообман, что убегать дальше попросту бессмысленно, да и некуда, что остановка неизбежна, и надо то ли что-то предпринять, то ли изобрести, чтобы каким-то образом извернуться и избавиться от тревожащего гнёта. Город стал делать отчаянные попытки прояснить и подправить это невразумительное «что-то» внутри самого себя, однако абсолютно все, и действительные, и мнимые, попытки так ни к чему и не привели: решение либо не находилось, либо, даже если находилось, выглядело запоздалым, вялым и малообещающим.
Тогда город испугался. Испугался впервые, понимая, что нарушил Договор. Договор, который ни в коем случае не следовало нарушать.
Тучи пришли, и на город упала вода.
Хищные серые жгуты опустились и вцепились прежде всего в самые высокие, торчащие над городом трубы. Затем они поползли ниже, с глухим гулом легли на крыши домов, обволокли стены, добрались до окон, надавили на них, напряглись и загудели громче, размазываясь и растекаясь по вибрирующему стеклу. Скатившись ещё ниже, на мостовые, они веером ринулись ощупывать каменную оболочку города, хладнокровно и методично выискивая щели, лазейки и слабые места.
Гудение мрачного ливня усиливалось, грозило быть долгим, невыносимо долгим, бесконечно долгим, и не только по воле туч, но ещё потому, что в момент нападения городу изменили висевшие на главной его площади часы. После первых ударов ветра часы остановили ход времени, приняли сторону нападавших и, качая вразнобой чёрными стрелками, определённо что-то подсказывали извивающимся потокам воды. Противиться происходящему город не мог. Всё, что было заготовлено им на этот случай, оказалось неэффективным и бесполезным, оказалось опять-таки обыкновенным постыдным самообманом. Городу было нехорошо. До крайности нехорошо. Покорившись неизбежности, он медленно погружался в воду.
Однако тучи пришли не с тем, чтобы наказать и утопить город. Тучи не намеревались разрушать его, хотя при желании сделать это они смогли бы довольно быстро и без особого труда. Тучи пришли, чтобы попасть внутрь города, так легкомысленно нарушившего Договор.
Живые водяные щупальца, беспрестанно двигаясь, плотно оплели снаружи здания, заборы, ступени, ведущие вниз, через подворотни просочились во дворы и самые узкие переходы и, конечно же, нашли то, что должны были найти. Найдя, они поджались, наподобие штор, не спеша поползли назад и в стороны, а в освободившееся пространство, подсвеченное уличными фонарями, из туч одна за другой спрыгнули молнии.
Перекрыв свет фонарей, молнии ужалили город, с оглушительным треском взорвались и вспороли его оболочку.
Отступившие было щупальца снова пришли в движение.
Из-за заборов, из самых затаённых закоулков, из щелей и трещин небесная вода потащила за шиворот на главные улицы всё то, что город так тщательно скрывал от самого себя, от чего годами отводил глаза, отталкивал, в чём не мог и боялся себе признаться. Уродливыми угрюмыми кусками из пропитанных угаром подвалов, из цементных заводских окраин, из темноты замусоренных тупиков к центру, к шикарным светящимся витринам нехотя выплывала его внутренность. Не обычный мусор, не мёртвый отработанный хлам, нет – к ужасу города, тучи извлекли на поверхность нечто более страшное, и это страшное было живым, грубым, бесформенным, но живым; и это живое было изнанкой плоти самого города. Изнанка дышала тем же воздухом, что и городской ухоженный фасад, о чём-то думала, росла, копила злобу, сбивалась в тяжкий ком, упиралась и царапала стены. Упрямо вырываясь из цепких объятий тащившей её к свету воды, изнанка хрипела, вздувалась и вместе с грязью выплёвывала из себя проклятия в адрес молний и туч.
Город понял, в чём именно он нарушил Договор.
Да, на его совести были, были утоптанные под асфальт луга, были вырубленные деревья и покинувшие город птицы, и ещё много, много такого, чего не хотелось бы вспоминать; но не только и не столько это, как ранее он полагал, было основной причиной не проходящего болезненного чувства. Причина была глубже, причина была в нём самом, причина была – он: с молчаливого согласия города его изнанка постепенно становилась его сутью. Отвернуться от предъявленного тучами факта, проигнорировать, не заметить грядущей беды теперь было невозможно. Промокший, с разодранной кожей город, широко раскрыв глаза и не моргая, вынужден был смотреть, смотреть и смотреть на самого себя.
Сверху за городом наблюдали тучи. Они исполнили то, ради чего приходили.
Гнева в них уже не было, как не было и зловещего гула: ливень ослаб, ушёл в пригороды и дальше – в спящие ночные поля. И только спрятавшийся в тучах ветер долго ещё гонял внутри них беззвучные белёсые сполохи. Странно, но город испытал облегчение. И не только потому, что сегодня самое страшное уже миновало.
Пришла ясность. Пронзительная ясность того, что и, главное, каким образом предстоит сделать. И первый необходимый шаг – тот, с которого нужно начать и который определит все последующие шаги, теперь городу был очевиден, и оказался этот шаг вовсе не сложен, а, напротив, до изумления прост: нужно стать честным по отношению к себе. Нужно прямо, без фальши и угодничества, называть светлое – светлым, а грязное – грязным. Всего-то.
Вместе с тем, очевидным было и другое: тучи помнят о Договоре, тучи вернутся. Вернутся непременно, вот только когда они придут и какими придут – этого город пока не знал.
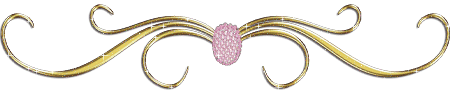
Книги Е.А. Куцева:
1. Сказки новогодней ёлки / - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2012. - 48 с.
2. Сказка про Три-Седьмое царство: театральная сказка-шутка / - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2013. - 76 с.
3. Сказки волшебные и правдивые / - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2016. - 60 с